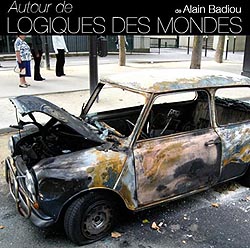Что сегодня возможно и, следовательно,
необходимо снять с философии швы и
провозгласить ее возрожде-
ние; что после долгой приостановки, которую
повлекли за собою последовательно
сменявшие друг друга разрушительные
привилегии в отношении условий научного (позитивизм),
политического (марксизм) и поэтического (от
Ницше и до наших дней), вновь становится
настоятельной конфигурация четырех
условий, исходящая из полностью
переделанной доктрины истины; что, в
разрыве с повторяющимися объявлениями о “конце
философии”, о “конце метафизики”, о “кризисе
рассудка”, о “деконструкции субъекта”,
задача состоит в том, чтобы подхватить нить
современного разума, сделать еще один шаг в
преемственности “картезианского
размышления”,—все это было бы всего-навсего
волюнтаристским произволом, если бы не
оказалось, что смысл всего этого
основывается на событиях, имеющих статус
решающих и внезапных, хотя и согласно еще
отложенным или ненадежным именованиям, в
регистре каждого из четырех условий.
Именно события матемы, поэмы, мысли о любви
и изобретенной политики и предписывают нам
возвращение философии своей способностью
обустроить интеллектуальное место убежища
и сбора для того, что в этих событиях отныне
именуемо.
По разряду матемы это событие составляет
путь, ведущий от Кантора к Полу Коэну. Он
основывает центральный парадокс теории
множественности и в первый раз целиком и
полностью доказательно артикулирует его в
различимом понятии неразличимой
множественности. Он решает в
противоположном по сравнению с
предлагавшимся Лейбницем смысле вопрос о
том, подчиняется ли рациональная мысль о
бытии как бытии верховенству языка или нет.
Сегодня мы знаем, что ни в коей мере и что,
напротив, лишь учитывая существование
произвольных, неименуемых, “родовых”
множественностей, множественностей, не
ограничиваемых никакими свойствами языка,
имеем мы шанс подойти к истине бытия данной
множественности. Если истина образует дыру
в знании, если тем самым не бывает знания
истины, а бывает лишь производство истин, то
дело тут в том, что продуманная в своем
бытии математически (то есть как чистая
множественность) истина является родовой,
избегающей всякого точного обозначения,
избыточной по отношению к тому, что оное
позволяет различить. Цена, которую надо
платить за эту убежденность, состоит в том,
что количество множественности
претерпевает неопределенность, своего рода
дефект разделительности, который и
наделяет полнотой реальности само бытие:
просто-напросто невозможно осмыслить
количественное соотношение между “числом”
элементов бесконечного множества и числом
его частей. Это соотношение имеет форму
лишь блуждающего избытка: известно, что
части более многочисленны, нежели элементы
(теорема Кантора), но не представляется
возможным установить какую-либо меру этого
“более”. Впрочем, именно на этом реальном
пункте—блуждающем избытке в бесконечном
количестве—и основываются великие
ориентации мысли. Номиналистская мысль
отказывается от этого результата и
допускает существование лишь именуемых
множественностей. Она предшествует тому
событию в сфере матемы, о котором я говорю, и
посему является мыслью консервативной.
Трансцендентная мысль верит, что
определение множественной точки,
помещенной над обычными мерами,
урегулирует, зафиксирует “сверху”
блуждание избытка. Эта мысль терпит
неразличимое, но только как преходящий
эффект неведения по отношению к какой-то “высшей”
множественности. Тем самым она не
утверждает избыток и блуждание в качестве
закона бытия, она надеется на некий полный
язык, полностью признавая, что мы им еще не
располагаем. Это мысль пророческая. Наконец,родовая
мысль полагает, что неразличимое является
типом бытия всякой истины, и принимает
блуждание избытка в качестве реальности
бытия, в качестве бытия бытия. Так как
отсюда следует, что любая истина есть
подвешенное к событию бесконечное
производство, несводимое к установленным
знаниям и определяемое только
деятельностью
тех, кто верен этому событию, можно сказать,
что родовая мысль является в самом широком
смысле мыслью воинствующей. Если здесь
нужно идти на риск какого-то имени для
события в сфере матемы, философскими
современниками которого мы являемся,
уместно будет сказать, что это событие—событие
неразличимой, или родовой, множественности
как бытия-в-истине чисто множественного (то
есть как истины бытия как такового).
По разряду любви, по разряду мысли о том,
истины чего она на самом деле приносит,
событием является творчество Жака Лакана.
Нам нет нужды вдаваться здесь
дополнительно в вопрос о статусе
психоанализа, вопрос, когда-то с оглядкой на
позитивистский шов сформулированный в виде:
“Является ли психоанализ наукой?”, и
кторый я выскажу скорее так: “Является ли
психоанализ родовой процедурой?
Принадлежит ли он к условиям философии?”
Отметим только, что, поскольку со времен
Платона и вплоть до Фрейда и Лакана
философскому познанию подлежали всего
четыре родовые процедуры, было бы
достаточно мотивированно и в некоторой
степени оправдало бы частое высокомерие
ярых приверженцев психоанализа, если бы
последний потребовал от философии
подходить к нему как к пятой такой
процедуре. И это была бы на самом деле
революция в мысли, совершенно новая эпоха
конфигурирующей деятельности филосо-
фии. Но если предположить, что психоанализ—не
более чем строй мнений, опирающийся на
институционные практики, отсюда будет
следовать только то, что Фрейд и Лакан—на
самом деле философы, великие мыслители,
которые по поводу этого строя мнений внесли
лепту в понятийное оформление общего
пространства, где находят прибежище и
собираются вместе родовые процедуры
данного времени. В рамках любой гипотезы за
ними остается огромная заслуга по
поддержанию и переустройству категории
субъекта в те времена, когда разнородно
подшитая философия по этому поводу
пасовала. На свой лад они окажутся
продолжателями “картезианского
размышления”, и нет никакой случайности в
том, что Лакан уже в первых из своих главных
работ выдвинул лозунг “возвращения к
Декарту”. Возможно даже, что они могли это
сделать, только отказавшись от статуса
философа или даже
объявляя себя, как Лакан, приверженцами
антифилософии. По своему положению мысль
Фрейда и Лакана, безусловно, сопровождала,
играя роль ее изнанки, десубъективирующую
операцию века поэтов.
Подход к Лакану как к теоретику любви, а не
субъекта или желания, может показаться
странным. Дело в том, что я обращаюсь здесь к
его мысли строго с точки зрения условий
философии. Вполне возможно (но количество и
сложность посвященных им ей текстов все же
симптоматично), что любовь не является
центральным понятием в проявленности
лакановского творчества. Однако именно под
углом трактующих ее мыслительных новаций
его начинание и становится событием и
условием возрождения философии. Впрочем, я
не знаю другой столь же глубокой теории
любви со времен Платона и развитой им в “Пире”
теории, с которой снова и снова вступает в
диалог Лакан.
Когда Лакан пишет: “С бытием как таковым
сталкивается при встрече именно любовь”,
чисто онтологическая функция, которую
он приписывает любви, отлично показывает,
что он вполне осознанно вводит, оперируя по
этому поводу философскими конфигурациями.
Дело в том, что любовь—это то, исходя из
чего осмысляется Двоица в расколе
господства Единого, образ которого она
сохраняет. Как известно, Лакан приступает к
своего рода логической дедукции Двоицы
полов, 'женской “части” и мужской “части”
субъекта, к разделению, которое сочетает
отрицание и кванторы всеобщности и
существования, чтобы определить женщину
как “не-все”, а мужской полюс как тем самым
ущербный вектор Всего.
Любовь является эффективностью этой
парадоксальной Двоицы, которая сама по себе
пребывает в стихии не-отношения, раз-вязанного.
Она есть “причал” к Двоице как таковой.
Происходя из события встречи (того “вдруг”,
на котором настаивал уже Платон), любовь
плетет бесконечный, или незавершаемый, опыт
того, что уже в этой Двоице составляет
невосполнимое превышение закона Единого.
На своем языке скажу, что любовь влечет
появление—в качестве безымянной, или
родовой, множественности—истины о половом
различии, истины, очевидно, высвобожденной
от знания, в особенности от знания тех, кто
любит друг друга. Любовь есть производство,
в верности событию-встрече, истины про
Двоицу.
Лакан составляет для философии событие,
поскольку он выявляет всевозможные
тонкости касательно Двоицы, касательно
образа Единого в развязанности Двоицы, и
упорядочивает в них родовые парадоксы
любви. Кроме того, вскормленный своим
опытом, он умеет и высказать, в
соотнесенности и сравнении, к примеру, с
куртуазной любовью, современное состояние
вопроса о любви. Он предлагает не только
понятие, артикулированное в соответствии с
зигзагами различия и его живой процедуры,
но и анализ обстановки. Вот почему
антифилософ Лакан являет собою условием
возрождения философии. Философия возможна
сегодня, только если она совозможна Лакану.
По разряду политики событие
сосредоточено в историческом эпизоде,
растянувшемся примерно с 1965 по 1980 год и
увидевшем, как друг за другом следуют, по
выражению Сильвена Лазарю, “смутные
событийности” (что следует понимать как
смутные с точки зрения политики). Сюда
относятся: Май-68 и его последствия,
китайекая культурная революция, революция
в Иране, рабочее и национальное движение в
Польше (“Солидарность”).
Здесь не место разбираться, были ли эти
события с чисто фактической точки зрения
счастливыми или пагубными, победившими или
безуспешными. Мы заведомо пребываем в
неизвестности относительно их
политического наименования. За исключением,
несомненно, польского движения, эти
политико исторические обстоятельства тем
более непрозрачны, что они представляли
сами себя—в сознании своих действующих лиц,
в рамках мысли, чей устаревший характер они
в то же время провозглашали. Так, Май-68 или
культурная революция обыкновенно
ссылались на марксизм-ленинизм, чье
разрушение, как вскоре выяснилось,—в
качестве системы политического
представления—было вписано в саму природу
этих собы-
тий. Происходившее, хотя и осмысленное в
этой системе, оставалось в ней неосмысляемо.
Точно так же иранская революция была
вписана в зачастую архаизирующее исламское
проповедование, тогда как ядро народных
убеждений и их символизация повсеместно
выходили за его рамки. Ничто не
засвидетельствовало лучше избыточности
события—не только в отношении своего
местоположения, но и в отношении имеющегося
в его распоряжении языка,—чем этот
диссонанс между непрозрачностью
вмешательства и пустой прозрачностью
представлений.
Из этого диссонанса следует, что
рассматриваемые события еще не поименованы,
или, скорее, что работа по их именованию (то,
что я называю вмешательством в событие) еще
не завершена, далека от завершения.
Политика сегодня—это среди всего прочего и
способность, храняему верность, надолго
стабилизировать это называние.
Философия подпадает политическому условию
ровно в той степени, в какой то, чем она
располагает в качестве понятийного
пространства, оказывается однородным с той
стабилизацией, собственный процесс которой
строго политичен. Видно, как Май-68, Польша и
т. п. участвуют в снятии с философии швов: то,
что здесь в политическом плане на кону,
отнюдь не переносится в философию, как
якобы было с “диалектическим
материализмом” и сталинской политикой.
Напротив, избыточное измерение события и
задача, предписываемая этим избытком
политике, и обусловливают философию,
поскольку ее долг—установить, что
политически изобретенные наименования
события совозможны с тем, что одновременно (иначе
говоря: в нашу эпоху) осуществляет разрыв в
строе матемы, поэмы и любви. Философия вновь
возможна именно потому, что она должна не
диктовать законы Истории или политике, а
лишь осмыслять современное пере-открытие
возможности политики, исходя из смутных
событийностей.
По разряду поэмы событием является
творчество Пауля Целана—и само по себе, и
по тому, что оно удерживает на последней
грани из всего века поэтов. Симптоматично,
что, именно ссылаясь на стихотворения
Целана, такие разные мыслительные
предприятия, как у Деррида, Гадамера или
Лаку-Лабарта, возвещают неизбежность шва
философии с ее поэтическим условием. Смысл,
который
я вкладываю в эти стихотворения (и, в
некотором смысле, уже в стихи Пессоа и
Мандельштама), совершенно обратен. Я
прочитываю здесь поэтически высказанное
признание, что поэзии самой себя уже не
достаточно, что она требует освобождения от
бремени шва, что она ждет философии,
освобожденной от подавляющего авторитета
поэмы. Лаку-Лабарт окольным образом
почувствовал это требование, выявляя у
Целана “прерывание искусства”. Это
прерывание, по-моему, является прерыванием
не поэзии, а поэзии, которой вверилась
философия. Драма Целана в том, что ему
пришлось лицом к лицу столкнуться со
смыслом в бессмыслии эпохи, с ее
дезориентацией, прибегнув единственно к
помощи поэмы. Когда
в “Анабасисе” он упоминает “подъем” к “слову-палатке:
вместе”, он стремится за пределы поэмы,
стремится к доле в какой-то не столь
погруженной в метафорическую единичность
мысли. Императив, завещаемый нам этой
поэзией, событие, отыскать которому имя она
предписывает нам где-то в другом месте,—это
поэтический призыв к воссозданию
раздробленного собрания понятийной
расстановки нашего времени, это
формулировка в поэме конца века поэтов, о
котором слишком уж забыли, что он не только
составил славу этих поэтов, но и обрек их на
мучения и одиночество, лишь усугубленное, а
не уменьшенное подшившейся к ним
философией.
Да, конечно, все основывается на том
смысле, который приписывается встрече
Целана и Хайдеггера, поч-
ти что мифическому эпизоду нашей эпохи.
Тезис ЛакуЛабарта—что оставшийся в живых
еврейский поэт не
смог... чего? Смириться? Выдержать? Во всяком
случае, пройти мимо того факта, что философ
поэтов хранил в его присутствии, в любом
присутствии, полнейшее молчание по поводу
уничтожения евреев. Ни секунды не
сомневаюсь, что так оно и есть. Но тут с
необходимостью имеется и кое-что еще: идти
на встречу с философом означало испытать то,
чего “подъем” к смыслу эпохи мог ожидать
от него во внепоэтической стихии. Философ
же возвращал в точности к поэме, так что
поэт оказался перед ним более одинок, чем
когда-либо. Нужно понять, что вопрос
Хайдеггера: “почему поэты?”, может
обернуться
для поэта как: “почему философы?”, и если
ответом на этот вопрос будет: “чтобы были
поэты”, то тем самым удваивается
одиночество поэта, которое Целан своим
творчеством превратил в событие,
поэтически потребовав от него освободиться.
Эти два значения их встречи, впрочем, отнюдь
не противоречат друг другу. Как мог
Хайдеггер разбить зеркало стихотворения—что
на свой лад делала поэзия Целана,—он,
который не верил, что может истолковать
свою собственную вовлеченность в национал-социализм,
оставаясь в рамках политических условий?
Это молчание, помимо того что самым тяжким
образом оскорбляло еврейского поэта,
являлось также непоправимым философским
упущением, поскольку
доводило до высшей степени, вплоть до
нестерпимости, уменьшающие и уничтожающие
последствия шва. Целан смог тут опробовать,
что же в конечном счете сулит философский
фетишизм поэмы. Глубочайший смысл его
поэтического творчества состоит в том,
чтобы избавить нас от этого фетишизма,
освободить поэму от ее умозрительных
паразитов и возвратить в братство ее
времени, где она отныне пребывала бы в мысли
по соседству с матемой, любовью и
политическим изобретением. Событие
заключается в том, что в тоске и отчаянии
поэт Целан выявляет в поэзии путь этого
возвращения.
Таковы события, которые обусловливают
сегодня в каждой родовой процедуре
философию. Наш долг—произвести понятийную
конфигурацию, способную собрать их вместе,
сколь бы мало именуемыми и даже выявляемыми
они еще ни были. Как родовое Пола Коэна,
теория любви Лакана, политика, верная Маю-68
и Польше, поэтический призыв Целана вне
поэмы одновременно возможны для мысли? Речь
ни в коем случае не идет о том, чтобы
подвести им общий итог; эти события
разнородны, невыравниваемы. Речь идет о том,
чтобы произвести понятия и правила
мышления,—возможно, донельзя далекие от
всякого явного упоминания этих имен и
свершений, возможно, как нельзя им близкие,
не суть важно,— но обязательно такие, чтобы
через эти понятия и правила наше время
оказалось бы представимо как время, когда в
мысли имело место то, что никогда прежде
места не имело и что отныне способны
разделить, даже того не зная, все, потому что
некая философия устроила для всех общее
прибежище из этого “имевшего место”.
|